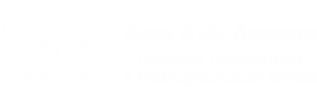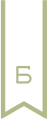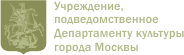Воспоминания Александра Евгеньевича Шапошникова

Левое крыло нашего дома. Окно в комнату Шапошниковых открыто. 1951 г.
Для получения увеличенного изображения кликните мышкой на фотографии.
ИСТОРИЯ ДОМА № 6-в ПО БОЛЬШОМУ НИКОЛОПЕСКОВСКОМУ ПЕРЕУЛКУ.
Арбат — моя малая родина
(вместо предисловия)
На рисунке в сатирическом журнале был изображен стиляжного вида молодой человек, стоящий перед комиссией по распределению молодых специалистов: — «Я хотел бы работать на своей родине». — «А где ваша родина?» — «На Арбате». «Стилягой» я не был, но карикатурный персонаж все же вызывал мое сочувствие: ведь и я родился на Арбате и в глубине души считал его своей малой родиной.
Появился я на свет 3 февраля 1932 г. в роддоме им. Грауэрмана вместе со своим братом-близнецом Владимиром (он умер в младенчестве). Обстоятельства нашего рождения отражены в следующем стихотворении:
Ангел надежды и Ангел печали
Ждали близняшек — меня вместе с братом.
Зимние ветры вокруг завывали
Снегом бросаясь в хитоны крылатых.
“Как же людишкам тут стало морозно!
Слушай! От Бога пришло повеленье:
«Двух прокормить стало здесь слишком сложно.
На небо взять одного в облегченье».
«Что ж, это ясно. Раздор, неустройства.
Вишь, сотворили из гипса кумиров.
Храмы взрывают, а в том ли геройство?
Многих имущих пустили по миру».
«Все это так. Но кого ж нам оставить?
Бросим ли жребий? Всевышнего ли спросим,
Иль попытаемся сами представить,
Кто побредет по житейским откосам?»
«Что ж тут мудрить. Кто получше — на небо,
Да вознесется он в райские кущи.
Брат же его пусть добытчиком хлеба
Станет на лоне природы цветущей».
«Что ты, какой из него земледелец!
Вряд ли и шапку сошьет он умело.
Все ж проявить себя сможет, надеюсь,
Выбрав профессией библиодело».
Мой темноволосый (в отца) брат Владимир выглядел, действительно, «получше». Это отметил врач Карпухин, хороший знакомый моих родителей. Про меня же он высказался вполне определенно: «не жилец».
Что же касается упомянутого в стихотворении «библиодела», то именно библиотечному делу я посвятил всю свою профессиональную жизнь. В 1951 г. я стал студентом Московского государственного библиотечного института. После окончания его (в 1955 г.) работал в библиотеках (в Чите, куда был направлен по распределению, затем в Москве). Окончил аспирантуру МГБИ (в 1964 г.). Стал работать преподавателем в этом институте (теперь Университет культуры и искусств), защитил кандидатскую (в 1965 г.), а спустя 28 лет (в 1993 г.) и докторскую диссертацию по проблемам библиотечного обслуживания слепых и других групп инвалидов. Профессор. В 2005 г. вышел на пенсию. Где бы я ни жил и кем бы ни работал, во мне сохранялась память о переулке на Арбате, в котором прошли мои юные годы (1932—1960).
Мысль поделиться своими воспоминаниями, относящимися к истории дома № 6-в по улице Вахтангова (Большому Николопесковскому переулку), возникла у меня благодаря переданному мне приглашению Библиотеки-дома А.Ф. Лосева, которое было адресовано всем жителям Арбата.
Приношу глубокую благодарность за предоставленные мне сведения бывшим жильцам дома № 6-в — Валерию Евгеньевичу Шапошникову и Татьяне Сергеевне Лознице (до замужества Лапшиной), а также Ирине Павловне Осиповой (в девичестве Федотовой), проживавшей тогда в соседнем доме № 6.
Дом № 6-в и его обитатели
…но как прекрасны старые дома
в горбатых переулках у Арбата!
В. Павлинов
Когда в 1940 г. мой одноклассник и друг Володя Павлинов впервые пришел ко мне, чтобы помочь в выполнении задания по чистописанию (по поручению нашей учительницы — Марии Степановны Усиковой: у самого Володи почерк был прекрасный), дом № 6-в еще не производил впечатления дряхлого. Построенный в 1925 г., он выступал как свидетельство частной инициативы. Застройщик, поспешивший воздвигнуть это деревянное двухэтажное строение, исходил, очевидно, из того, что НЭП введен надолго.
Высокие потолки, хорошо продуманная планировка квартир (каждая была рассчитана на проживание одной семьи), наличие ванной комнаты с дровяной колонкой, балкона, комнат для прислуги и «черной» лестницы — все это, казалось, возрождало старый уклад жизни и было рассчитано на привлечение состоятельных квартиросъемщиков. Однако эти расчеты не оправдались. К моменту моего рождения дом был уже муниципализирован, застройщик выселен (его дальнейшая судьба мне неизвестна), жильцы уплотнены.

«Никола на Песках»: Храм Николая Чудотворца (Николы на Песках).
Из альбома Н.А.Найденова. 1881 г.
Для получения увеличенного изображения кликните мышкой на фотографии.
Всего в доме № 6-в было четыре квартиры. Их нумерация (с 12 по 15) напоминала о том, что рядом с ним вплоть до начала 30-х годов стояли еще два дома — № 6-а и 6-б, снесенные вместе с церковью Николая Чудотворца (Николы на Песках). На подготовленном таким образом строительном участке (захватившем и церковное кладбище) был ускоренными темпами построен кирпичный шестиэтажный дом № 6, который заселили совслужащими (работниками Наркомата электростанций и др.).
Пройти от нашего дома на улицу Вахтангова проще всего было через боковую арку дома № 6 (с улицы дом № 6-в виден не был).
Большинство жильцов дома № 6-в составляли служащие и члены их семей. Представителями «атакующего класса» — рабочих — были только жившие на первом этаже, в квартире № 12, Лепешковы. Они (сам Лепешков, работающий слесарем в домоуправлении, его жена и две дочери — Нина и Зоя) гордились своим пролетарским происхождением, безбоязненно отстаивали интересы жильцов дома (вплоть до писем в вышестоящие инстанции). Их общественная активность проявилась, например, в таком случае: в один из новогодних праздников жильцы дома увидели поставленные перед фасадом елочки (их было довольно много) — это Лепешков решил преподнести всем жильцам сюрприз, использовав свои связи и возможности.
В квартире № 12 помимо Лепешковых проживала также привлекательная особа, много раз (4 или 5) менявшая своих мужей. Я ее помню под фамилией Фабиани. В той же квартире обитала гражданка Иванова со своими дочерьми — Катей и Зоей, стойко переносящая выпавшие на ее долю трудности.
На том же этаже в квартире № 13 жили Гурские. Глава этого семейства был арестован и осужден на 10 лет. «Мадам Гурская» (так ее называли соседи) осталась с малолетним сыном Юрием одна. Скоро на освободившуюся (с точки зрения домоуправления) жилплощадь был вселен престарелый военный — отставной полковник Караулов, появившийся в квартире Гурских вместе с заботливо опекаемой им собакой (в морозные дни она выходила гулять в специально сшитой для нее попонке). Караулов установил дружеские отношения как с «мадам Гурской», так и с ее сыном.

Дворовая компания у дома № 6-в, 1934 г.
Крайняя слева, во втором ряду — Зоя Лепешкова, крайний справа, во втором ряду — Валерий Шапошников. Во втором ряду, третий слева — Юра Гурский.
Для получения увеличенного изображения кликните мышкой на фотографии.
Квартиру № 14 на втором этаже занимали Лапшины и Шапошниковы. Вселение в нее нашего семейства произошло следующим образом. После ареста И.П. Лапшина и заключения его в Бутырскую тюрьму (в ней Иван Петрович просидел около года) для Лапшиных возникла угроза уплотнения. Тогда они решили не дожидаться появления в их квартире совершенно незнакомых лиц, а подселить в нее хорошо известного им человека — моего отца, Евгения Владимировича Шапошникова (1899—1989), сослуживца Ивана Петровича.
Мои родители — калужане. С 1925 г. отец, специалист по сельскому хозяйству, стал работать в Москве. Проживал он «на птичьих правах», снимая небольшую комнату у Лапшиных. Когда же ему предложили занять большую комнату, прописаться в ней и перевезти в нее все семейство, то он, разумеется, согласился. Незадолго до моего рождения из довольно благополучной в продовольственном отношении Калуги (многие горожане вели натуральное хозяйство) в голодную Москву переехали: его жена — Екатерина Григорьевна (1896—1983), мать — Мария Ивановна (1874—956) и дети — сын Валерий (родился в 1922 г.) и дочь Галина (1921—2007). Таким образом, в одной комнате (24 кв. м) стали проживать, включая отца и меня, 6 человек.
Из Калуги в Москву были перевезены вещи, занявшие довольно много места в отведенном для нашего семейства жизненном пространстве: громадный, облицованный красным деревом, буфет, изящный книжный шкаф, рояль, комод и др. Удивительно, как это все разместилось в одной комнате. К трем железным кроватям добавлялись раскладушки, дополнительное спальное место было на крышке рояля. Главным украшением комнаты было зеркало. Оно и сейчас стоит передо мной: безмолвный свидетель событий, происходивших в доме № 6-в.
У Лапшиных остались три комнаты, одна из них стала проходной. В них проживали 7 человек: сыновья И.П. Лапшина — Сергей и Петр, жена Ивана Петровича — Анна Павловна, вместе со своей сестрой Ольгой, жена Сергея — Алла Сергеевна, их дочери — сестры-близнецы Татьяна Сергеевна и Ольга Сергеевна (родились 16 октября 1934 г.). После вселения нашего семейства и рождения сестер-близнецов вопрос об уплотнении отпал сам собой.
И.П.Лапшин был сослан в места «не столь отдаленные» — сначала в Казахстан, потом на Урал (под Уфу). Желая повидать своих родных, отваживался время от времени появляться в Москве. От каких-либо контактов он при этом уклонялся, в разговор с моим отцом не вступал, к посетителям квартиры не выходил (в проходной комнате, служащей Лапшиным гостиной, все еще висел его портрет — крепкого, энергичного и обладающего чувством собственного достоинства человека).
Застекленная дверь, отделяющая нашу комнату от проходной, занавешивалась. Однако отлично помню, как я, отодвигая край занавески, начинал подсматривать за тем, как играют Таня и Оля. Заметив это, Алла Сергеевна всегда приглашала меня присоединиться к ним, что я и делал.
По вечерам у Лапшиных собирались гости. Они беседовали, совершенно не опасаясь того, что их кто-либо может подслушать (на это обстоятельство, отражающее степень доверия между нашими семействами, много лет спустя обратила мое внимание Татьяна Сергеевна). Почти ежедневно Сергей Иванович музицировал, играя свои любимые фортепьянные пьесы.
Отношения между семействами Лапшиных и Шапошниковых были доброжелательными. Двери комнат не запирались. Какого-либо графика по уборке мест общего пользования не существовало, они сообща содержались в чистоте. Звонок в квартиру был общий, пофамильной дифференциации звонков не проводилось. У каждого жильца был свой ключ, но бывали случаи, что его забывали. Долго ждать у дверей квартиры не приходилось.
Соседями Лапшиных и Шапошниковых по лестничной площадке были Челышевы (квартира № 15). Прокурору Михаилу Ивановичу Челышеву, который был вселен в нее вместе со своим семейством, долго в ней жить не пришлось. Он был репрессирован и пропал в ГУЛАГе. Своему сыну, Аркадию, Клавдия Ивановна об участи, постигшей его отца, предпочитала не говорить. Аркадий Михайлович воевал, вернулся и стал жить в этой квартире вместе с матерью и молодой женой.
В дом № 6-в можно было беспрепятственно войти как через парадный вход со стороны фасада (кодовых замков тогда не существовало), так и по «черной» лестнице. Пользовались ею мало, разве только для того, чтобы пройти на чердак, который напоминал мне иллюстрации к «лавке древностей» Ч. Диккенса. Все же на чердаке хозяйки находили место для того, чтобы развесить для просушки выстиранное белье. Мне приходилось бывать на нем вместе с бабушкой. Чердак привлекал меня своей недоступностью (он запирался) и возможностью обозревать снесенную на него рухлядь.
Рядом с домом стояли сараи, используемые для хранения дров. Пилка и рубка дров были рутинными занятиями, со временем мое участие в них становилось все более значительным. Разжигать печку, смотреть на языки пламени, ворошить кочергой прогорающие угли — этот жизненный опыт был получен мною не из книг.
Обитатели дома № 6-в стойко выдерживали удары судьбы. Они честно трудились, воевали, активно участвовали в послевоенном строительстве. Многие из них были отмечены правительственными наградами Так, орденоносцами стали мой отец (орден Отечественной войны II степени), мать (орден «Знак почета») и брат (орден «Красной звезды»).
В коротких штанишках по Арбату
В один из летних дней проходившие по Арбату граждане могли наблюдать следующую картину: по тротуару несется мальчишка в коротких штанишках, а вслед за ним устремляется быстрым шагом интеллигентный мужчина средних лет, стараясь не упускать мальчугана из вида. Я только что сбежал из парикмахерской, в которую меня отвели перед тем, как сфотографировать. Послушно сев на положенную на кресло доску (так показалось удобным для парикмахера) и обозрев с этого возвышения разложенные на столике ножницы, я почему-то почувствовал сильнейшее желание сбежать. Парикмахер, устроив меня на кресле, куда-то отошел. Отец увлеченно беседовал с молодым человеком, сидящим в очереди. Воспользовавшись моментом, я слез с доски и выскочил на улицу. Открыв на мой стук дверь (до звонка я еще не дотягивался), мама удивленно спросила: «А где же папа?».
Пришлось пригласить для моей стрижки парикмахера на дом (после чего я стал посещать парикмахерскую без фокусов). Глядя на фотографию добронравного мальчика в нарядной матроске, трудно представить, что он был способен на неожиданные решения и поступки.
Уверенность, с которой я сбежал из парикмахерской, была основана на приобретенном к тому времени знании топографии Арбата. Ко мне приходила воспитательница («бонна»), с которой меня отпускали гулять по арбатским переулкам. Эта интеллигентная пожилая женщина («тетя Соня») не только гуляла со мной, но и рассказывала различные легенды и предания, связанные с находившимся на Арбате «доме с приведениями» (он стоял недалеко от школы № 73), с убийством графа Мирбаха, с Собачьей площадкой и т.д. Так, от «тети Сони» я узнал, что бездействующий фонтан на Собачьей площадке вовсе не указывает на место захоронения собаки, а название этой площадки скорее всего связано с тем, что на этом месте содержали псов, предназначенных для царской охоты. Мы часто усаживались около этого примечательного, украшенного львиными мордами фонтана, стоявшего на столь знакомой многим жителям Арбата прежних времен площадке.
У памятника Н.В. Гоголю на бульваре, названном его именем, были воздвигнуты четыре фонарных столба (они и сейчас окружают новый памятник), которые поддерживали медные львы, перелезать через лапы которых было для меня (как и для многих маленьких жителей Арбата) большим удовольствием.
В дни моего детства в арбатских переулках еще можно было увидеть тумбы (металлические или каменные), предназначенные для привязи лошадей. Большой практической необходимости в них уже не было (хотя мой отец вспоминал, что вещи с Киевского вокзала при переезде в Москву он доставил на извозчике).
Возвратившись домой, я попадал в хорошо приспособленную для моего существования среду, наполненную игрушками, альбомами для раскрашивания, цветными карандашами и «книжками-малышками». Игрушек у меня было много. Некоторые из них (оловянные солдатики, кукла с закрывающимися глазами, сделанная из телячьей кожи и издающая мычание корова) были привезены из Калуги. Но были и игрушки, купленные уже в Москве — деревянные и металлические конструкторы, паровые лодки, револьверы-«пугачи», которые «бабахали» с помощью пистонов. В корзине с игрушками размещались пирамиды с деревянными кольцами, предназначенные для складывания картинок кубики (в каждом комплекте — 6 сюжетов) и кубики с буквами.
Обычно я забирался под рояль, усаживался на шкуру волка (подарок «дяди Людвига», обрусевшего немца и заядлого охотника) и занимался своими делами, не путаясь под ногами взрослых.
Огромная клыкастая голова волка хорошо гармонировала с коллекциями бабочек, гербариями растений и другими экспонатами, отражавшими естественнонаучную направленность интересов моих родителей. В нашей комнате всегда находилось место для представителей животного мира — млекопитающих, птиц, пресмыкающихся.
Членами сразу двух семейств — Шапошниковых и Лапшиных — становились кошки. Территориальных границ внутри квартиры они не признавали. Так, одна из кошек, опекаемых Лапшиными, облюбовала ящик нашего комода как наиболее удобное место для появления своего потомства. Она же, возвращаясь утром после ночных прогулок, влезала по наружной стене, цепляясь за бревна и остатки штукатурки, к нашему окну и начинала требовательно мяукать, дожидаясь того момента, когда кто-нибудь на нее посмотрит. Затем она спрыгивала вниз и поднималась по лестнице на площадку 2-го этажа, будучи совершенно уверенной в том, что ее впустят в квартиру.
Белых крыс нам приручить не удалось. Они стали пожирать друг друга (хотя, казалось бы, питанием были обеспечены).
Наиболее спокойными жильцами оказались рыбки. Требовалось лишь следить за чистотой воды в аквариуме и регулярно снабжать рыбок не только сухим кормом (бросать рыбкам крошки хлеба не рекомендовалось), но и мотылем.
В понравившемся мне стихотворении Агнии Барто «Снегирь» есть такие строчки:
На Арбате, в магазине,
За окном устроен сад.
Там летает голубь синий,
Снегири в саду свистят.
Мне не пришлось, как мальчику из этого стихотворения, не драться с девчонками (кстати, не считая одного случая, я с ними не дрался) и «быть хорошим» для того, чтобы родители купили для меня снегиря (несмотря на то, что и у них было «в кармане по дыре»). Но прожил снегирь в специально приобретенной для него клетке недолго. Та же участь постигла и овсянку, которую я накормил овсом, взятым из гербария.
Долгое время жила у нас черепаха, которая свободно путешествовала по комнате, совершенно не беспокоясь о том, что на нее кто-нибудь наступит. Ела из рук смоченные в молоке кусочки засохшего белого хлеба, капустные листья. Защитная реакция (втягивание головы и ног под панцирь) у нее отсутствовала: она как будто знала, что никто не думает причинить ей боль. Мне она позволяла гладить ее по голове.
Общаясь с «братьями меньшими», я проникался глубокой уверенностью в общности всего живого на Земле, в возможность взаимопонимания между людьми и животными.
В тени гильотины (1937 год)
По данным, приведенным Н.С. Хрущевым в июне 1957 г. на Пленуме ЦК КПСС, за 1937—1938 гг. было арестовано свыше 1, 5 млн. чел., из них 680 692 — расстреляны. Среди жертв «большого террора» оказались и две ключевые для нашего семейства фигуры — политический деятель, один из идеологов сменовеховства Николай Васильевич Устрялов (1890—1937) и маршал Михаил Николаевич Тухачевский (1893—1937). Об участии этих людей в жизни нашей семьи я постараюсь рассказать, опираясь на неопубликованные записки моей матери и собственные воспоминания.
Николай Васильевич Устрялов был двоюродным братом моей матери. Вернувшись в 1935 г. в СССР из эмиграции, он поселился в Москве и стал бывать у нас, заходя по родственному, без предупреждений. Как-то Екатерина Григорьевна, оставив его в нашей комнате беседующим с моим отцом (речь шла о политике и нравственности), пошла в булочную, чтобы купить что-нибудь к чаю. Возвращаясь, она увидела, как какой-то человек, стоящий на прислоненных к стене дома ящиках (которые, очевидно, он же и притащил) буквально прилип к нашему окну, стараясь услышать то, о чем беседовали Николай Васильевич и мой отец. Разумеется, моя мать не стала ему мешать в этом занятии. О том, что за Николаем Васильевичем следят, она знала (об этом ее предупредила Наталия Сергеевна Устрялова — жена Николая Васильевича). Знала она и о том, что комнаты Устряловых в доме НКПС прослушиваются и поэтому говорить в них надо с сугубой осторожностью.
Появление Николая Васильевича в нашей комнате меня нервировало: я начинал «плакать» (по выражению Устрялова) или «кукситься» (по более точному, как мне кажется, определению моей сестры). «Катишь!» — недоуменно спрашивал Николай Васильевич мою мать, поглядывая на меня с доброжелательным любопытством. — «Почему он у тебя все время плачет?». Действительно, почему? Неужели я предчувствовал ту участь, которая его ожидала?
Как вспоминала моя мать, Николай Васильевич попросил ее познакомить его с М.Н. Тухачевским (Екатерина Григорьевна три года — с 1935 по 1937 — давала уроки дочери маршала — Светлане). Эта просьба была передана по назначению. Михаил Николаевич ответил, что он всегда готов встретиться с Устряловым. Из протокола допроса Н.В. Устрялова видно, что эта встреча состоялась и что ее организатором выступил сам Тухачевский.
На допросе Н.В. Устрялов намеренно подчеркивал полную аполитичность моей матери: «пожилая женщина, лет пятидесяти, совершенно аполитична, думающая только о своих детях» (замечу, что ей тогда было не 50, а только 41 год). В то же время он отметил, что Тухачевский доволен преподаванием моей матери.
О характере взаимоотношений Екатерины Григорьевны с семьей Тухачевского говорится в следующем моем стихотворении:
В машине маршала
Первого мая — вот было событье!
Звонят. Шофер предлагает собраться
Без промедленья, на улицу выйти
Чтоб по Москве с ветерком мне промчаться.
Тут и Светлана пришла к нам с цветами
(«Нина Евгеньевна ждет нас в машине»).
Это экспромт. Неожиданность. Мама
Все ж проводила меня к лимузину.
Я же, довольный, залез на сиденье.
Света смеялась. А тень гильотины
К нам подбиралась сквозь флагов кипенье,
Песен и маршей живые картины.
Город верхушками зданий понесся.
Весь провалившись в подушки из кожи
Мало что видел я в праздничном кроссе.
Скромно молчал. Вел себя осторожно.
«Что ж, принимайте сокровище ваше» —
Нина Евгеньевна маме сказала.
Та в ожиданьи теракта уставши
Вздох облегченья и не скрывала.
Теракта, мишенью которого стала бы машина маршала Тухачевского и находящиеся в ней люди, не произошло. Беда пришла с другой стороны. 26 мая 1937 г. М.Н. Тухачевский был уволен из рядов РККА и арестован, а 11 июня он был осужден по ложному обвинению в измене Родине и расстрелян. 14 сентября та же участь и по столь же ложным обвинениям постигла Н.В. Устрялова (и тот и другой впоследствии были реабилитированы).
В те тяжелые дни моя мать нашла в себе силы противостоять нагнетаемому безумию. Когда арестовали М.Н. Тухачевского, она отважилась прийти в разгромленную обыском квартиру («…обои порваны, картины сняты. Точно «Вий»), чтобы передать Светлане справку об окончании шести классов. На митинге, на котором проводилось голосование по требованию предать смерти «врагов народа» — М.Н.Тухачевского и других, Екатерина Григорьевна была единственным не поднявшим руки человеком (это было замечено, но к чести дирекции школы № 57 никаких организационных выводов в отношении моей матери сделано не было — в этой школе она проработала вплоть до 1959 г., когда ушла на пенсию).
Из записок моей матери: «Встретилась я со Светланой уже в 1958 году. Она, по моему приглашению, пришла ко мне со своей подругой Светой Воеводиной. Отца восстановили. От нее узнала, что бабушка умерла, Нину Евгеньевну расстреляли. Сама Света вышла замуж, имеет дочку Ниночку».
В первый класс!
1 сентября 1940 г. я пошел в первый класс 73-й школы, находившейся в пяти минутах ходьбы от нашего дома, в Серебряном переулке. Меня сопровождала бабушка. Помню солнечный, но уже довольно прохладный осенний день, толпу ребят, стоящих вместе с пришедшими проводить их родственниками во дворе школы. Вызывали по списку. Слышу: «Шапошников!». И вдруг из толпы выходит какой-то мальчик и бодро устремляется вперед. Бабушка заволновалась: «Вот здесь Шапошников, вот он!». Оказалось, что у меня есть однофамилец. Впоследствии я не так уж часто, но все же встречал однофамильцев и даже присутствовал на их встречах и выставках семейных фотографий.
Следует признать, что я довольно легкомысленно отнесся к первому посещению школы, положив в ранец тетрадку, уже исписанную мною и даже без промокашки. Поэтому когда учительница предложила нам взять тетрадки и аккуратно положить налево, на развернутую обложку, промокашку, то я испытал памятное до сих пор смущение. Мария Степановна решила ободрить меня. — «Вот как, ты уже умеешь писать!» — сказала она, взглянув на мою заполненную каракулями тетрадку.
Нас быстро отпустили. Внизу меня дожидалась бабушка. Это был единственный случай, когда меня провожали в школу. В дальнейшем я ходил в нее самостоятельно, избрав самый короткий путь (по дворам, перелезая через заборы). Как-то я, желая похвастать перед мамой своим открытием этого пути, провел ее по освоенному мной маршруту. И она с готовностью составила мне компанию, поддержав таким образом мой исследовательский порыв.
Ученье давалось мне легко. К этому времени я уже освоил не только «книжки-малышки», но и «Русские народные сказки», «Приключения Буратино» А. Толстого и даже «Юрия Милославского» М. Загоскина.
Мария Степановна Усикова нередко приходила на урок с книжкой в руках и устраивала пятиминутное «громкое чтение», зачитывая тот или иной интересный рассказ или отрывок. Так мы прослушали значительную часть книги Б. Житкова «Что я видел», надолго оставившей след в моей памяти.
В нашем классе назначались дежурные, которые должны были следить за порядком и чистотой в классе и выпроваживать всех во время перемены в коридор, каждый должен был выложить письменные принадлежности и тетрадки для следующего занятия. И тут я, как дежурный, дал однажды промашку, раскрывая ранцы и вынимая из них тетрадки тех, кто сам забывал это сделать. За что и получил замечание. Пожалуй, это единственное замечание, которое я услышал в школе.
В классе у меня установились дружеские отношения с Володей Гариным и Вовкой Павлиновым (о нем я уже упоминал выше). Владимир Павлинов впоследствии стал видным представителем поэтической молодежи («поэт-геолог»), сотрудником редакции журнала «Юность».
В той же школе учился мой брат Валерий (я — в первом, а он — в десятом классе). Помню, как он, спустившись на первый этаж, где у нас проходили занятия, выхватил меня из группы одноклассников и высоко поднял над головой.
Первый класс я окончил, получив награду «за отличную успеваемость и поведение» книжку Б. Шатилова «В лагере» — явно «на вырост» (о несчастной любви подростка). Хорошая книжка — в твердом переплете, изящно оформлена и лишена какой-либо назидательности.
Вражеские самолеты над Арбатом
День 22 июня 1941 г. заставил разделить жизнь на три части: «до», «во время» и «после войны». Через окна и балконную дверь врывались потоки солнечного света, падая на омраченные лица. По радио передавали выступление В.М. Молотова. Его слова были наполнены такой тревогой и такой внутренней силой, что меня охватила дрожь (ни до ни после этого нервной дрожи у меня никогда не было), а слова «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами» прозвучали как пророчество.
Прослушав это выступление, Екатерина Григорьевна поспешила к соседям:
— «Петр Иванович, война!»
— «Война? С кем? С Англией?»
— «Нет, с Германией».
В первые же дни войны была опубликована песня Вас. Лебедева-Кумача «Священная война» (музыка А. Александрова). На содержащийся в ней призыв «Вставай, страна огромная» откликнулись многие жители нашего дома. Среди них был и Петр Иванович Лапшин. Он пошел на фронт добровольцем, был пулеметчиком. Пал смертью храбрых в 1942 г. в боях на Смоленском направлении.
Залпы зениток и треск пулеметов жители Арбата впервые услышали в ночь с 23 на 24 июня, когда город был уже объявлен на военном положении. Брат Валерий дежурил в это время у нашего дома. Тревога оказалась учебной. Но очень скоро передаваемые по радио объявления: «Граждане! Воздушная тревога!» и оповестительные гудки сирен стали предупреждать о вполне реальной опасности. В небо поднимались аэростаты заграждения. По ночам его бороздили лучи прожекторов.
Моему отцу во время его дежурства удалось забросать песком две зажигательные бомбы, упавшие на крыльцо.
Песок, используемый для тушения «зажигалок», жильцы дома № 6-в накопали поблизости — там, где раньше находилось кладбище при церкви Николая Чудотворца на Песках, снесенной в начале 30-х годов. Обнаруженные при этих раскопках черепа временно водружались на ограду. В этом было что-то фантасмагорическое — как будто жители Москвы прошлых веков встали из могил, чтобы остановить врага.
Самым безопасным местом для ночлега казалось метро. В тот единственный раз, когда мы в него спустились (через вестибюль станции «Арбатская») и прошли вглубь тоннеля, удобные, оборудованные лежаками места были уже заняты. Между тем на улице Вахтангова, совсем недалеко от нашего дома, находилось хорошо оборудованное бомбоубежище, а рядом газоубежище, в которое пускали стариков и детей. Постоянной моей спутницей, сопровождавшей меня в бомбоубежище, стала бабушка.
Воздушные тревоги объявлялись так часто, что мне надоело ходить в бомбоубежище. Один раз я взбунтовался и наотрез отказался уходить из дома. Тогда Мария Ивановна оставила меня одного в квартире, а сама спустилась на первый этаж и стала о чем-то беседовать с Валентиной Петровной Лепешковой. А я почувствовал себя неуютно. Лег в передней на пол, думая таким образом себя обезопасить, и стал прислушиваться к разрывам (то ли бомб, то ли снарядов). Больше таких капризов я себе не позволял.
Дом № 6-в поврежден взрывной волной
24 июля фугасная бомба разворотила здание театра им. Вахтангова. В нашем доме, расположенном рядом, были выбиты стекла, в комнате осыпалась печь. Вследствие падения этой бомбы перестала закрываться дверь на балкон, штукатурка осыпалась. Весь второй этаж, на котором мы жили, был в трещинах.
Летом и осенью 1941 г. Екатерина Григорьевна работала воспитателем в интернате при 57-й школе, находящемся в Загорске. С собой она взяла меня и Марию Ивановну. Немцы наступали, и 15 октября интернат вернули в Москву, по приезде в которую разделили между воспитателями и учениками сахарный песок и другие продукты (нам они очень пригодились). Идти по затемненному городу было непривычно. Пройдут один-два дня, и на улицы начнет слетать пепел от сжигаемых бумаг и архивов. С 20 октября в Москве будет введено осадное положение.
К этому времени наша полуразрушенная квартира опустела: отец и брат были мобилизованы в армию, сестра Галина выехала в Алма-Ату вместе с институтом, в котором училась. Из соседей также никого не осталось: Сергей Иванович Лапшин и его брат Петр Иванович находились на фронте, остальные члены этого семейства выехали в эвакуацию.
В комнате было холодно, отопить квартиру мы не могли. Нас приютила жившая на Арбате подруга моей матери, Елена Максимилиановна Минина (их фотографии стоят рядом в музее 57-й школы), но долго жить у нее мы, разумеется, не могли. Моя мать обратилась в жилотдел с просьбой предоставить нам временно жилплощадь в соседнем доме, в котором оказались свободные комнаты («Все вещи сохраню в полном порядке»). Эта просьба была удовлетворена. Но когда хозяева комнаты, в которую нас вселили, вернулись из эвакуации, пришлось перебраться в комнатушку без естественного освещения (окон в ней не было). В ней мы жили до осени 1943 г., когда домоуправ тов. Шаматульская приняла кардинальное решение — она прислала в дом № 6-в бригаду рабочих, которые довольно быстро вставили стекла, заделали щели, засыпали шлаком дверцы балкона.
Над домом гремят салюты
Построенный в годы НЭПа «на скорую руку» дом № 6-в все же выдержал удар взрывной волны, выстоял и после самого неотложного ремонта, приспособившего его для жилья, продолжил свою историю. Вокруг него происходили события, служащие предвестниками грядущей Победы.
Вечером 5 августа 1943 г. в Москве впервые был дан артиллерийский салют в честь войск, освободивших Орел и Белгород. В дальнейшем такие салюты производились неоднократно.
Что же касается фугасных бомб, от которых пострадало здание театра им. Вахтангова и много других зданий в районе Арбата, то с тех пор, как враг был отброшен от Москвы, о них как-то забыли. Поэтому неприятным сюрпризом стал момент, когда над головой раздались залпы зенитных орудий, а по асфальту в нескольких метрах от меня зацокали осколки. Произошло это недалеко от станции метро «Арбатская». Пришлось встать под защиту колонн наземного вестибюля этой станции, построенного в форме пятиконечной звезды. У них уже стояли люди и напряженно смотрели в небо, в котором угадывался силуэт вражеского разведывательного самолета. Присоединившись к ним, я также стал следить за облачками разрывов зенитных снарядов, но самолет скрылся, как бы растворившись в зеленовато-голубом воздухе.
Продолжали работать библиотеки — Центральная городская библиотека № 1 им. Н.А. Некрасова, которая размещалась на углу улиц Арбат и Воровского (ныне Поварская) в доме, обозначенном в памяти москвичей как ресторан «Прага», Библиотека № 36 им. Н.А. Добролюбова (тогда она находилась на Смоленской площади, в доме № 4, где занимала несколько комнат на втором этаже). Уже после войны, получив паспорт, я стал постоянным читателем этих библиотек.
Для записи в Детский читальный зал Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина (теперь Российская государственная библиотека) паспорта, разумеется, не требовалось. Этот большой читальный зал для детей был открыт в мае 1942 г. Из статьи Н.Н. Яковлева (в то время директора Библиотеки): «Этот зал — гордость Ленинской библиотеки. Он отремонтирован, оборудован в условиях ожесточенной войны и превращен в прекрасное место детского чтения. Ребята буквально очарованы этим залом» . Среди этих ребят был и я, а также мои товарищи — Эдвард Кононович, Александр Иванов, Георгий Юхневич и др. (перечислены те, дружеские отношения с которыми продолжаются до сих пор).
Открывались «оздоровительные площадки» и столовые для детей фронтовиков. На одной такой оздоровительной площадке мне удалось побывать (летом 1942 г.). На этой площадке для нас проводили различные игровые мероприятия (бег, игры с мячом и др.). В середине дня полагался так называемый «мертвый час». Перед ним нас водили в столовую. Мы переходили Гоголевский бульвар и по переулку Сивцев Вражек шли строем к 59-й школе, в помещении которой находилась столовая. Считалось, что нам дают завтрак, обед и ужин (так было обозначено на карточке). Обычное меню: манный суп, яичница с колбасой и картошкой, стакан компота, две рисовые котлеты со сметаной. Все это съедалось в один присест. Запомнились еще омлеты из яичного порошка и суфле — из продуктов, получаемых по ленд-лизу. Раза два нас угостили мандаринами. В общем, неплохо. Несмотря на такое «усиленное дополнительное питание» я все же, по свидетельству окружающих меня лиц (оно зафиксировано в переписке), оставался худым и бледным. Стремясь исправить такое положение, Екатерина Григорьевна с готовностью согласилась выехать с группой учащихся 57-й школы на сельскохозяйственные работы в колхоз. В эту группу по ее просьбе был включен и я. Таким образом, каждое лето, с 1943 по 1945 год, я превращался, хотя бы на месяц, в деревенского мальчишку с соответствующим кругом забот и интересов.
Из письма к отцу (1943 г.): «Мы в колхозе. Природа здесь конечно не та, что в Москве. Здесь много ягод. Перед домом, в котором мы живем, пруд. У нашей хозяйки есть теленок, поросенок, овцы и корова. Дают 1 литр молока и 100 гр. мяса в день. Мы ехали сюда из Зарайска на машине (28 км.). Реки здесь нет. Около деревни бывший барский сад. В этом саду масса клубники, малины, ежевики, вишен».
Из письма бабушке: «Едим картошку, гречневую кашу, молоко. Рожь поспела, но дожди мешают ее убрать. Здесь я впервые увидел зарницы. Когда приеду в Москву, прочитаю литературу о зарницах. Первым делом пойду в библиотеку».
В памяти остались длинные грядки картофеля, прополкой которого мы занимались. С удовольствием ездил на неоседланной лошади, хотя и боялся с нее свалиться. Поездки на этом добром и понятливом животном прекратились, когда в окрестностях села Зайцево, в котором мы жили, появились волки.
Встречаться с серыми хищниками мне не хотелось. Переходя через колхозное поле, я, чтобы отпугнуть волков, стал во все горло распевать известные мне песни («Орленок», «Смело, товарищи, в ногу», «Крейсер Варяг» и др.).
На людей волки не нападали, но в отношении ягнят не стеснялись. Отбитые пастухами у волков овцы стали существенной добавкой к нашему питанию.
«Справка. Дана правлением колхоза «Социализм» с. Зайцево, Журавенского с/совета Шапошниковой Ек[атерине] Григорьевне, в том, что она действительно работала в вышеуказанном колхозе в лето 1945 г. и везет с собой продукты в количестве 139 кг.» За лето мы зарабатывали около 80 трудодней, за которые получали муку (ржаную и пшеничную) и картофель. Из привезенной из колхоза муки моя бабушка всю зиму пекла вкусные ржаные лепешки.
Мука привлекала внимание крыс. Наша комната подверглась их нашествию. Крысы прогрызли в стенках буфета и гардероба, куда были положены мешки с мукой, огромные дыры. Они бесстрашно бегали по комнате, взбирались на ковер, которым был завешен балконный проем, и нагло посматривали на меня, сидящего с ногами на рояле (чтобы быть от них подальше) с книжкой в руках. Подаренная мне записная книжка, пахнущая свежим клеем, была ими вытащена ночью из-под подушки, причем сделали это они так ловко, что я даже не проснулся (уж этого я от них никак не ожидал, считая, что нашел для записной книжки самое безопасное место).
Спасение от крыс пришло вместе с котом Василием (называть Васькой его как-то не хочется), которого моя сестра, вернувшаяся из эвакуации, принесла с улицы. Он решил остаться у нас, проводя большую часть времени на своем пуфике. Крысы исчезли (множество оставшихся от них хвостов было выметено из разных углов комнаты).
Кот прожил у нас до 1954 г. И только после того, как он ушел и не вернулся, мы узнали от рабочих находившейся в нашем дворе котельной, расстроенных его исчезновением, что он частенько заходил к ним и наводил страх на забегавших в котельную грызунов.
Из переписки с отцом и братом
Писем с фронта и на фронт в домашнем архиве сохранилось довольно много (всего 281) — сложенных треугольником или на бланках бесплатных воинских писем с напечатанными боевыми призывами и информацией о героических подвигах.
Почта работала четко. Невостребованные письма посылались по обратному адресу. Какая-то часть писем прошла вместе с адресатами все дороги войны и вернулась в целости и сохранности к нам уже после демобилизации. Так, отец сумел сберечь мои письма («Я берегу твои открытки. Они напоминают мне о твоих рисунках и домашних играх» — из письма ко мне в январе 1942 г.).
Мое внимание в первую очередь привлекали описания боевых эпизодов. Вот один из них (из письма Валерия): «С моего взвода боец получил орден Красной Звезды. Немцы ночью подошли к траншеям. Боец заметил шорох и пустил две ракеты. Немцы встали и кинулись в траншею. Боец стал стрелять, навалив кучу гитлеровцев. Мы вскочили и пошли в контратаку. Это был мой первый штыковой бой».
Незабываемое впечатление на отца произвел штурм Белграда, в котором он принимал участие. Их одели в бронежилеты, выдали боевое оружие. Отец пишет: «Позавчера, в ночь на 20 октября [1944 г.] я был назначен на штурм громадного одиннадцатиэтажного здания в городе — крупнейшей цитадели немцев. Штурм начался утром двадцатого. Он прошел благополучно. Население встречало нас исключительно восторженно. Вся занимавшаяся немцами накануне часть города была занята нами. Боевые перебежки по городу происходили под гром аплодисментов и криков «здраво живео» столпившихся в подъездах и воротах жителей. Нам совали в руки папиросы, сладкие пончики из крупчатки, бросались на шею, целовали. Мы остановились на окраине у дворца местной главы церкви и его управления. Жители опять давали папиросы, табак, поили сладким горячим чаем, угощали жареным салом, жали руки, целовали. Среди приветствовавших было много священников. Когда возвращались строем с песнями обратно в свое расположение, овации жителей были беспрерывно. Бросали цветы, врывались в строевые колонны, целовали, обнимали, кричали приветствия. Но конец пути пришлось пройти рассыпным строем вследствие налета неприятельской авиации. После кратковременного отдыха вышли на новое задание по разминированию части города, находящейся за рекой — вперед за отступающим немцем».
«Бью и буду бить врага на его собственной территории» — писал Валерий матери. «Теперь победа уже не за горами». Ему вторил отец: «Конец войны приближается. Лишь бы дождаться его без всяких осложнений. Возможность их, однако, не исключена.»
9 мая хотелось верить в то, что люди одумаются и не будут больше воевать друг с другом. Мы надеялись на то, что скоро придут письма и развеют последние тревоги. Толпы ликующего народа заполнили центр Москвы. Вечером воздух сотрясали залпы грандиозного салюта. Беспрестанно вспыхивали ракеты. Ошеломленный, я стоял на Арбатской площади, над которой три года тому назад видел силуэт вражеского самолета.
Наступили мирные дни. Мое последнее письмо отцу, посланное по полевой почте в июне 1945 г.: «Дорогой папа! Ты сообщил, что полевая почта твоя переменилась. Жаль, что ты не получишь 5 писем, которые мы тебе послали в последние дни. Еще и еще раз поздравляю тебя с окончанием войны. Думаю, что очень скоро с тобой увидимся. Лето стоит хорошее. Когда ты приедешь, мы побываем и в кино, и в музеях, и в Третьяковской галерее. Приезжай».
В первые послевоенные годы
После войны наша жизнь вошла в мирную колею. Была проведена денежная реформа (1947 г.). Поскольку никаких денежных накоплений, которые пришлось бы обменивать по курсу 1 к 10, в нашей семье не было, то эта реформа прошла для Шапошниковых совершенно безболезненно. Более того, возросла стоимость мелочи (металлические монеты обмену не подлежали и принимались к платежам по номинальной стоимости), а ее скопилось у нас довольно много. Таким образом, в первые же дни реформы открылась возможность приобретения на эту мелочь хлеба в булочной.
Одновременно с денежной реформой была проведена отмена карточек. На Арбате открылось кафе, в которое на правах старшего брата меня пригласил Валерий. Помню, как он со слезами на глазах смотрел, как я пытался завернуть в бумажную салфетку и унести с собой недоеденный мной кусок хлеба.
Валерий некоторое время после демобилизации работал в Литературном музее на должности технического редактора, выполняя поручения директора музея Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича (1873—1955). Как-то в кабинет Владимира Дмитриевича, с решительным видом проходя мимо Валерия, направилась какая-то женщина. Валерий остановил ее: «Вы к кому?». — «Я Землячка!» — ответила та, сверкнув на Валерия глазами. — «К Вам, Владимир Дмитриевич, какая-то землячка хочет пройти» — сказал мой брат, приотворив дверь кабинета. Он тогда не знал, что это та самая Розалия Самойловна Землячка (1876—1947), которая прославилась своей деятельностью в Крыму в годы гражданской войны.
Отец после демобилизации вернулся к своей сельскохозяйственной специализации. Он стал работать старшим инженером-механизатором в сельхозотделе одного из министерств.
Мать продолжала работать в 57-й школе. Она брала все больше и больше частных уроков, стремясь таким образом обеспечить семью, дать возможность Галине, Валерию и мне получать высшее образование. За ее разносторонние знания и успехи в подготовке, казалось бы, самых безнадежных учеников, коллеги называли ее «профессором».
Все заработанные деньги уходили на пропитание. Бабушка всячески старалась помочь матери по хозяйству, готовила вкусные, питательные, но недорогие блюда. Так, она разбавляла покупные мясные котлеты (они стоили тогда 7–10 коп.) хлебным мякишем и жарила их в двойном количестве. И я, и брат, уходя из дома в одно и то же время (брат с 1947 по 1951 г. учился в Московском юридическом институте) с удовольствием съедали не одну, а две котлеты. Кормила бабушка нас также кашами — овсяной, манной, пшенной.
Юные вольнодумцы
«Какая-то тяжесть давит на всех, заставляет лгать … Эти фанфары, торжествующая посредственность, боязнь честного открытого слова, страх перед мыслью …» — говорил мой 19-летний друг Юрий Гаврилов, и я соглашался с ним. Мы часто прогуливались по Арбату, доходили до стен Кремля, оживленно обсуждая интересующие нас вопросы. Вот слова Юры о литературе: «Почему наша литература так бедна? — Писатели не могут высказывать свои мысли. До тех пор, пока этот гнет существует, нечего мечтать о расцвете литературы. Люди боятся свободно мыслить. Еще вдвоем с ближайшим другом можно говорить честно. Втроем начинаешь остерегаться, а вчетвером — критические высказывания выглядят как агитация. В современных условиях могут преуспевать только серые и беспринципные личности: те, что не умеют критически разбираться в жизни и на веру воспринимают все то, что им вдалбливают, что у одаренных людей вызывает чувство оскомины».
Ю.М.Гаврилов (1932—1951) несомненно обладал литературным способностями и его неожиданная преждевременная смерть (он попал под электричку) воспринималась знавшими его людьми как гибель прогрессивно мыслящего и исключительно одаренного человека. Его размышления о судьбе дяди, погибшего при защите Брестской крепости в 1941 г. (однофамильца героя обороны), были приняты на вечное хранение в музей Брестской крепости.
Из современных исторических исследований и опубликованных в последние годы воспоминаний известно, что в 1946—1947 гг. в ряде мест возникли нелегальные группы молодежи. Эти юные романтики, росшие в условиях войны, были меньше обременены стереотипами и страхом перед властью. Такие группы молодежи существовали и на Арбате.
В старших классах 73-й школы мы также попытались организовать нечто вроде подпольного кружка, которому присвоили отнюдь не оригинальное название «Зеленая лампа». Единственное собрание этого кружка было проведено по всем правилам — с назначением основного докладчика и оппонента. В качестве докладчика выступил я, взяв темой доклада критический разбор поэтики Маяковского.
Заседание кружка проходило у Владимира Николаевича Коробкина, отец которого деликатно нас покинул, предоставив комнату в наше распоряжение (он работал дворником и меня всегда смущало противоречие между его культурным обликом и выполняемыми обязанностями). Мое выступление прошло успешно, хотя мой оппонент, Лев Иванович Журавлев (мы его тогда называли просто Левой) и пытался что-то возразить. Парадокс заключался в том, что сделав критический анализ поэтики Маяковского, я через некоторое время превратился в поклонника его ранней лирики и охотно цитировал отдельные стихотворения («Я сразу смазал карту будня …» и др.).
Осенью 1951 г. стали распространяться слухи об аресте членов «Союза борьбы за дело революции» (аресты проходили с января 1951 г.). Никто из моих товарищей в «Союз борьбы за дело революции» не входил, очевидно, это нас и спасло. Больше мы не собирались. Только через много лет мы узнали о трагической судьбе членов этой организации.
Дыхание «оттепели» на Арбате
Впервые дыхание «оттепели» на Арбате меня охватило на встрече с писателем И.Г. Эренбургом в 1954 г. Название его повести «Оттепель» и послужило метафорическим обозначением потепления «политического климата» в стране. Эта встреча происходила в новом помещении библиотеки № 36 им. Н.А. Добролюбова. Читальный зал был весь заполнен — люди не только сидели, но и стояли в проходах. Илья Григорьевич предстал перед нами в виде крупного, высокого, выхоленного человека в безукоризненно сидящем на нем сером костюме (я его представлял, почему-то, иначе). Уверенно, с какими-то барственными интонациями, он заявил, что «Оттепель», несмотря на критику, лежит в его сердце и на письменном столе (вторая часть повести оказалась, однако, гораздо слабее первой).
«Бей в барабан и не бойся» — с таким настроением я пришел на общеинститутскую читательскую конференцию по роману В.Кочетова «Журбины». Она проходила в Московском государственном библиотечном институте (МГБИ), в котором я учился. Критический настрой моего выступления стал неожиданностью для присутствующих (до него звучали только положительные отзывы).
«Говоря словами Белинского, — сказал я, — какими бы прекрасными мыслями не было наполнено произведение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет художественности, то все, что можно заметить в нем — это разве прекрасное намерение, дурно выполненное». В своем выступлении я отметил схематизм построения романа, предварительную заданность и малохудожественный стиль изложения. Напряженное молчание было мне ответом. Затем раздались аплодисменты.
В декабре 1954 г. проходил Второй всесоюзный съезд советских писателей. Приведу выдержку из дневника: « Сегодня открывается съезд писателей. Что я жду от съезда? 1. Утверждение критического изображения действительности. 2. Демократизация ССП. Свобода групповых и литературных направлений. 3. Журналы должны иметь свое лицо и быть выражением различных направлений. Тогда 4. Вместо застойного болота — движение, борьба, огонь» (15 декабря 1954 г.).
Перед этим я с интересом следил за полемикой, которая развернулась на страницах газет. Писатели С. Маршак, Э. Казакевич, Н. Погодин, К. Паустовский, и др. выступили 23 ноября 1954 г. с открытым письмом, в котором выражалось желание распустить ССП. В «Литературной газете» было опубликовано письмо В. Вишневского, отвечающее требованию демократизации ССП. Против выступали В. Кочетов и В. Ажаев. А. Крон разгромил сценарий «Большая семья», выступая против сусального показа действительности. Все это и подвигло меня на размышления, связанные с открытием съезда (Союз писателей СССР прекратил свое существование в 1991 г.).
Атмосфера «оттепели» способствовала тому, что мне удалось вернуться в Москву из Читы, куда я был отправлен по распределению и где заведовал одной из городских библиотек и в порядке совместительства вел занятия в областной культпросветшколе (сентябрь 1955 — декабрь 1956 гг.).
Вернувшись в Москву, я стал свидетелем того, как молодежь (среди которой было немало жителей Арбата) собиралась у памятника В. Маяковскому, открытого 29 июня 1958 г. Подобные вечера проводились регулярно. На них читали не только свои стихи, но и произведения поэтов, книги которых практически не переиздавались (О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой и др.).
Последний ремонт дома № 6-в
К концу 50-х годов дом № 6-в заметно обветшал. В нашу комнату поставили подпорку, которая поддерживала балку, не позволяя потолку рухнуть на наши головы. Через щели в стенах свободно проходил свежий воздух. Было принято решение о расселении жильцов и сносе дома.
В быстрое расселение дома как-то не верилось. По-прежнему соседи угощали друг друга только что испеченными пирогами (с мясной начинкой и капустой — об этом вспоминает Татьяна Сергеевна Лозница), по-прежнему к нам заходили друзья и знакомые.
Неожиданно пришли строительные рабочие и стали спешно ремонтировать одну из стен дома, обращенную к особняку, в котором жили сотрудники вьетнамского посольства. Вьетнамцы были прекрасными соседями, не доставляющими никаких хлопот, ведущими себя мирно и дружелюбно. В Москву должен был приехать президент Вьетнама Хо Ши Мин, и в частичном ремонте обшарпанного фасада дома было нечто от «потемкинской деревни». Валентина Петровна Лепешкова (наша соседка с первого этажа) не смогла сдержать своего возмущения: она обратилась с письмом к К.Е. Ворошилову, который тогда был председателем Президиума Верховного Совета СССР. В результате дом был косметически отремонтирован со всех сторон и преобразился — стал таким, как был 35 лет назад. Помолодевшим он и остался в моей памяти.
15 февраля 2010 г.